- Романтическая серия, #3
Глава 14
Завтрак, приготовленный Элизабет, избавил Яна от чувства голода; даже сама мысль о еде заставляла бунтовать его желудок, когда он направлялся к амбару проверить ногу Мейхема.
Торнтон прошел часть пути, когда увидал ее слева, на склоне холма среди колокольчиков, сидящей, обхватив руками колени и прижавшись к ним лбом. Несмотря на волосы, сияющие на солнце, как только что отлитое золото, она представляла собой картину разрывающего сердце уныния. Ян собирался отвернуться и оставить ее в печальном одиночестве, затем со вздохом раздражения передумал и начал спускаться к ней вниз по холму.
Не доходя нескольких ярдов, он понял, что ее плечи тряслись от рыданий, и удивленно нахмурился. Совершенно очевидно не было смысла притворяться, что завтрак был удачен, поэтому, добавив к голосу нотку шутливости, сказал:
– Я восхищаюсь вашей изобретательностью – если б вы застрелили меня вчера, это была бы слишком быстрая смерть.
От звука его голоса Элизабет сильно вздрогнула. Подняв голову, она смотрела в сторону, влево, отвернувшись, чтобы он не видел ее заплаканного лица.
– Вам что-нибудь нужно?
– Десерт? – предположил Ян шутливо, слегка наклоняясь, чтобы рассмотреть ее лицо. Ему показалось, что он увидел, как грустная улыбка скользнула по ее губам, и продолжил: – Я подумал, что мы могли бы взбить сливки и положить их на печенье. Потом мы можем взять, что останется, смешать с остатками яиц и использовать при починке крыши.
Она засмеялась сквозь слезы, прерывисто вздохнула, все еще отказываясь посмотреть на него, и сказала:
– Меня удивляет, что вы совсем не сердитесь за это.
– Нет смысла плакать из-за подгоревшего бекона.
– Я плакала не из-за этого, – ответила она, чувствуя себя глупой и сбитой с толку.
Перед ее глазами появился белоснежный носовой платок, Элизабет взяла его и приложила к мокрым щекам.
– Тогда почему вы плакали?
Зажав в руке носовой платок, она смотрела прямо перед собой, ее взгляд сосредоточился на окружающих холмах, усыпанных колокольчиками и боярышником.
– Я плакала о моем собственном несоответствии и неумении управлять своей жизнью, – призналась Элизабет.
Слово «несоответствие» удивило Торнтона, и Ян подумал, что для пустой маленькой кокетки, какой он ее считал, у нее был исключительно богатый словарный запас. Элизабет посмотрела на него, и перед глазами Яна оказалась пара зеленых глаз изумительного цвета мокрых листьев. Слезы еще блестели на ее длинных темных ресницах, длинные волосы завязаны сзади, как у девочки, бантом, а лиф платья обрисовывал пышную грудь, она представляла собой картину очаровательной невинности и опьяняющей чувственности. Ян оторвал взгляд от ее груди и резко сказал:
– Я пойду нарубить дров, чтобы вечером у нас был огонь. А потом собираюсь наловить рыбы на ужин. Полагаю, вы найдете себе развлечения на это время.
Удивленная его неожиданной резкостью, Элизабет кивнула и поднялась, подсознательно заметив, что он не предложил руку, чтобы помочь ей. Ян уже уходил, но повернулся и добавил:
– Не пытайтесь убирать в доме. Джейк вернется еще до вечера с женщинами, которые и уберут.
После того, как он ушел, Элизабет вошла в дом в поисках какого-нибудь занятия, которое отвлекло бы ее от раздумий о своем положении и помогло бы израсходовать накопившуюся энергию. Решив, что наименьшее, что она может сделать, так это убрать беспорядок, оставшийся после приготовления завтрака, девушка занялась уборкой. Отскребая яйца от почерневшей сковороды, она услышала ритмичные удары топора, раскалывающего дрова. Подняв руку, чтобы убрать со лба прядку волос, выглянула в окно и покраснела. Без всякого намека на стыдливость Ян Торнтон был обнажен до пояса, бронзовая спина переходила в узкие бедра. Когда он красивым движением взмахивал топором, описывая дугу, на его руках и плечах перекатывались мощные выпуклые мышцы. Элизабет никогда не видела обнаженных мужских рук, не говоря уже о полностью голом мужском торсе, поэтому была потрясена, увлечена и испугана тем, на что она смотрит. Отведя взгляд от окна, Элизабет запретила себе поддаваться грешному искушению тайком посмотреть на него еще разок. Вместо этого она раздумывала, где он научился так умело и ловко колоть дрова. Ян так был на месте на вечере у Харисы; так свободно чувствовал себя в красиво сшитом вечернем наряде, что она считала, будто он всю свою жизнь провел на задворках светского общества, добывая себе средства на жизнь игрой. И вот Ян чувствует себя дома здесь, в дебрях Шотландии. И здесь больше, чем там, решила она. Кроме его мощного тела, в нем были жесткая жизненная сила, неуязвимость, которые так гармонировали с непокоренной землей.
В это мгновение Элизабет вдруг вспомнила то, что давно уже решила забыть. Она вспомнила, как он вальсировал с ней в беседке и естественную грацию его движений. Торнтон явно обладал способностью вписываться в ту среду, в которую ему случалось попадать. Почему-то эта мысль расстроила ее – или потому, что он, казалось, почти заслуживал восхищения, или потому, что неожиданно заставила ее усомниться в способности правильно оценить его в то время. Впервые после той страшной недели, закончившейся дуэлью, Элизабет позволила себе пересмотреть то, что произошло между ней и Яном Торнтоном – не события, а их причины. До сих пор она могла переносить последовавший позор только потому, что целиком и полностью обвиняла за это Яна, точно так же, как делал это Роберт.
Снова очутившись с ним лицом к лицу сейчас, когда Элизабет была старше и умнее, она, казалось, больше не могла этого делать. И даже то, что Ян был недобр к ней сейчас, не могло заставить ее и дальше полностью возлагать на него вину за прошлое.
Медленными движениями моя блюдо, она увидела себя такой, какая есть: глупая, потерявшая голову и так же виновная в нарушении правил, как и он.
Решив быть беспристрастной, Элизабет пересмотрела свои действия два года назад и собственную вину. И его. Прежде всего, нет слов, как она была глупа, так сильно желая защитить его… и ища его защиты. В семнадцать лет, когда ей должно было быть слишком страшно даже подумать о свидании с ним в том домике, она боялась уступить тем непонятным, неведомым чувствам, которые пробудили в ней его голос, глаза, прикосновения.
Когда ей по всем правилам следовало бояться его, она боялась только за себя, за будущее Роберта и Хейвенхерста. Если бы Элизабет провела наедине с Яном Торнтоном еще один день, еще несколько часов в тот уик-энд, она бы отбросила осторожность и разум и вышла за него замуж. Элизабет уже тогда чувствовала это и поэтому послала за Робертом, чтобы тот увез ее пораньше.
Нет, поправила себя Элизабет, ей никогда не грозила опасность выйти замуж за Яна Торнтона. Несмотря на то, что два года назад он говорил, что хочет жениться на ней, такого намерения у него не было, Ян сам признался в этом Роберту.
И тут, когда воспоминания начали пробуждать в ней гнев, она вспомнила кое-что еще, что странным образом успокоило ее. Впервые за два года Элизабет вспомнила то, о чем предупреждала ее Люсинда накануне первого выезда в свет. Наставница подчеркивала, что женщина должна каждым своим поступком внушать джентльмену, что от него ожидают, что он будет вести себя, как джентльмен, в ее присутствии. Дуэнья, очевидно, понимала, что хотя мужчины, с которыми собиралась познакомиться Элизабет, были формально «джентльменами», в отдельных случаях они могли вести себя не по-джентльменски.
Допуская, что Люсинда была права в обоих случаях, Элизабет начала раздумывать, а не была ли она сама виновата в том, что случилось в тот уик-энд. В конце концов, с самой первой встречи Элизабет, конечно, не произвела на Яна впечатление добродетельной молодой леди строгих правил, которая ожидала от него самого строгого соблюдения приличий. Прежде всего она попросила его пригласить ее на танец.
Доведя эту мысль до соответствующего вывода, подумала, а не сделал ли Ян, возможно, того, что сделали бы многие другие, принимаемые в свете джентльмены. Он, вероятно, считал ее более опытной, чем она была, и хотел развлечься. Если бы Элизабет была умнее, опытнее, то, без сомнения, знала бы это и сумела бы вести себя с шутливой искушенностью, которую Ян, должно быть, и ожидал от нее тогда. Сейчас, ощущая себя взрослым человеком, Элизабет поняла, что хотя Ян не был принят в обществе, как многие из кавалеров света, он действительно вел себя не хуже их. Она видела, как замужние женщины флиртовали на балах; даже случайно была свидетельницей сорванного поцелуя или двух, после чего джентльмен получал всего лишь удар веером по руке и предупреждался со смехом, что должен вести себя хорошо. Элизабет улыбнулась при мысли, что вместо удара по руке за нахальство Ян Торнтон получил пулю из пистолета. Она улыбнулась, но на этот раз без злорадного удовлетворения, а просто потому, что в этом была определенная забавная ирония. Ей также пришло в голову, что она могла бы пережить весь этот уик-энд и ничего плохого, кроме причиняющего легкую боль затянувшегося увлечения Яном Торнтоном, не случилось, если бы ее не застали с ним в оранжерее.
Оглядываясь назад, ей виделось, что за большую часть того, что случилось, следовало винить ее собственную наивность.
Каким-то образом от всего этого она почувствовала себя лучше, впервые за долгое время растворился бессильный гнев, который мучил ее почти два года, ей стало легко.
Элизабет взяла полотенце, затем застыла на месте, раздумывая, а не ищет ли она просто оправданий для этого человека. Но зачем бы, размышляла она, медленно вытирая глиняные тарелки. Ответ заключался в том, что у нее просто сейчас было больше проблем, чем она могла справиться, и, избавившись от враждебного чувства к Яну Торнтону, ей будет легче их решить. Это выглядело так разумно и так правдоподобно, что Элизабет решила, что это должно быть правильно.
Когда все было вытерто и убрано, она вынесла воду, затем походила по дому, ища какое-нибудь занятие, чтобы отвлечься. Поднялась наверх, распаковала письменные принадлежности и принесла их вниз на кухонный стол, чтобы написать Александре, но через несколько минут почувствовала себя слишком взволнованной, чтобы продолжать. На дворе было так хорошо, и по наступившей тишине она знала, что Ян закончил колоть дрова. Положив перо, вышла из дома, навестила в амбаре лошадей и, наконец, решила заняться большим участком, заросшим сорняками и пробивающимися сквозь них цветами позади дома, где когда-то был сад. Она вернулась в дом, нашла пару старых мужских перчаток и полотенце под колени и снова вышла.
С безжалостной решительностью Элизабет выдергивала сорняки, которые душили храбрые маленькие анютины глазки, пробивающиеся к воздуху и свету. К тому времени, когда солнце стало лениво склоняться к закату, она избавилась от самых густых сорняков и выкопала несколько колокольчиков, посадив их ровными рядами в саду, чтобы в будущем их краски были видны самым наилучшим образом.
Временами Элизабет прекращала работу и, стоя с лопатой в руке, смотрела вниз в лежащую там долину, где сквозь деревья вилась тонкая ленточка ручья, сверкая голубизной. Иногда она видела быстрое движение руки Яна, когда тот забрасывал удочку. Иногда он просто стоял там, слегка расставив ноги, смотря на скалы на севере.
День уже кончался, и она, не вставая с колен, выпрямилась и смотрела, как выглядят колокольчики, пересаженные ею. Рядом с ней возвышалась маленькая кучка компоста, который Элизабет сделала, смешав сгнившие листья и кофейную гущу, оставшуюся от завтрака.
– Ну, вот, – сказала она цветам одобряющим тоном, – у вас есть пища и воздух. Скоро вы будете очень счастливы и красивы.
– Вы разговариваете с цветами? – спросил Ян за ее спиной.
Элизабет вздрогнула и обернулась, смущенно засмеявшись.
– Они любят, когда я с ними разговариваю. – Понимая, как странно это звучит, продолжила, объясняя: – Наш садовник говорил, что все живое нуждается в любви, и цветы тоже.
Повернувшись снова к цветам, она насыпала остатки компоста вокруг них, затем встала и отряхнула руки. Утренние размышления о нем настолько приглушили ее неприязнь, что сейчас, глядя на него, она смогла оставаться совершенно спокойной и хладнокровной. Элизабет подумала, однако, что ему, должно быть, кажется странным, что гостья копается в его саду, как служанка.
– Надеюсь, вы не против, – сказала она, кивая в сторону сада, – но цветы не могли дышать, когда столько сорняков душили их. Они просили немножко места и пищи.
Непонятное выражение мелькнуло у него на лице.
– Вы слышали их?
– Конечно, нет, – усмехнувшись, сказала Элизабет. – Но я взяла на себя смелость и сделала специальную еду… ну, компост, практически… для них. В этом году это им мало поможет, но, я думаю, на следующий год они будут намного счастливее.
Элизабет умолкла, только теперь заметив, каким тревожным взглядом он посмотрел на цветы, когда она упомянула приготовление для них «еды».
– Не надо смотреть на них, как будто вы ждете, что они погибнут тут у моих ног, – упрекнула Элизабет со смехом. – Они намного лучше справятся со своей пищей, чем мы со своей. Я – хороший садовник, намного лучше, чем повар. – Ян отвел глаза от цветов, затем со странным задумчивым выражением посмотрел на нее. – Я пойду в дом и уберу там.
Она пошла, не оглядываясь, и поэтому не видела, как Ян Торнтон, полуобернувшись, смотрел на нее.
Задержавшись, чтобы наполнить кувшин горячей водой, которую нагрела на плите, Элизабет отнесла его наверх, затем сходила еще четыре раза, пока не набралось достаточно воды, чтобы вымыться самой и вымыть голову. После вчерашнего путешествия и сегодняшней работы в саду она чувствовала себя очень грязной.
Через час, с еще влажными волосами, Элизабет надела простое платье персикового цвета с короткими пышными рукавами и узкой лентой того же цвета на высокой талии. Сидя на кровати, она медленно расчесывала волосы, давая им высохнуть, одновременно думая о том, как до смешного не подходит ее одежда для этого дома в Шотландии. Когда волосы высохли, подошла к зеркалу, собрала всю массу волос на затылке, затем высоко подняла их, скрутив в импровизированный шиньон, который, она знала, распустится от малейшего ветерка. Слегка пожав плечами, Элизабет отпустила волосы, и они упали, закрыв ей плечи; она решила так их и оставить. Настроение у нее все еще было бодрым и радостным, и в глубине души она была уверена, что оно и дальше останется таким же.
Когда Элизабет сошла вниз, Ян направлялся к двери во двор с одеялом в руках.
– Поскольку они еще не вернулись, – сказал он, – я думаю, нам не мешало бы что-нибудь поесть. Мы поедим хлеб с сыром во дворе.
Ян переоделся в чистую белую рубашку и светло-коричневые бриджи, и когда она выходила следом за ним из дома, то увидела, что волосы у него на затылке еще были влажными.
Выйдя из дома, он расстелил одеяло на траве, и она села на него сбоку, смотря вдаль на холмы.
– Как вы думаете, который сейчас час? – спросила Элизабет через некоторое время, когда Ян опустился рядом с ней.
– Около четырех, полагаю.
– Не пора бы им вернуться?
– Им, вероятно, было трудно найти женщин, которые бы согласились бросить собственный дом и подняться сюда на работу.
Элизабет кивнула и забылась, поглощенная великолепием раскинувшегося перед ними вида. Дом стоял на краю плато, и там, где кончался двор, плато резко спускалось в долину, по которой, извиваясь между деревьями, протекал ручей. Вдалеке долину с трех сторон окружали холмы, громоздящиеся друг на друга, покрытые ковром полевых цветов. Этот вид был так прекрасен, так дик и зелен, что долгое время Элизабет сидела очарованная и странно умиротворенная. Наконец, промелькнула мысль, заставившая ее с беспокойством посмотреть на него.
– А рыбу вы поймали?
– Несколько. Я их уже почистил.
– Да, но вы можете их приготовить? – спросила с улыбкой Элизабет.
Он чуть не улыбнулся.
– Да.
– Это радует, должна признаться.
Подтянув ногу, Ян оперся рукой о колено и повернулся, разглядывая ее с откровенным любопытством.
– С каких это пор дебютантки включают копание в грязи в свои излюбленные развлечения?
– Я больше не дебютантка, – ответила Элизабет. Когда она поняла, что он намерен ждать какого-нибудь объяснения, то тихо сказала: – Мне говорили, что мой дедушка с материнской стороны был садоводом-любителем, и, вероятно, от него я унаследовала любовь к растениям и цветам. Сады в Хейвенхерсте – дело его рук. С тех пор я расширила их и посадила новые сорта.
Ее лицо смягчилось, а великолепные глаза засияли, как яркие зеленые драгоценные камни, при упоминании о Хейвенхерсте. Вопреки здравому смыслу, Ян поощрял разговор о предмете, который явно имел для нее особое значение.
– Что такое Хейвенхерст?
– Мой дом, – сказала она с нежной улыбкой. – Он принадлежит моей семье уже семь столетий. Первый граф построил там замок, который был так прекрасен, что четырнадцать разных завоевателей, желая его получить, осаждали его, но ни один не смог взять. Через несколько столетий замок был снесен другим предком, желавшим построить дворец в классическом греческом стиле. Затем следующие шесть графов расширяли, увеличивали и модернизировали его, пока он не стал тем, что есть сейчас. Иногда, – призналась Элизабет, – сознание, что от меня зависит, сохранится замок или погибнет, немного угнетает.
– Я бы предположил, что ответственность падает на вашего дядю или брата, но не на вас.
– Нет, на меня.
– Как это может быть? – спросил он, заинтересованный тем, что она говорит об этом месте так, как будто это единственное на свете, что имеет для нее значение.
– По правам наследования Хейвенхерст должен переходить к старшему сыну. Если нет сына, то переходит к дочери и через нее ее детям. Дядя не может наследовать, потому что он моложе моего отца. Я полагаю, поэтому он никогда ни капельки не заботился о Хейвенхерсте, и сейчас его страшно возмущает, сколько стоит содержание замка.
– Но у вас есть брат, – заметил Ян.
– Роберт мне брат наполовину, – сказала Элизабет, настолько успокоенная окружающим видом и мыслью, будто разобралась в происшедшем два года назад, что говорила с ним совершенно свободно. – Моя мать овдовела, когда ей исполнился всего двадцать один год, а Роберт был ребенком. Когда она вышла за моего отца, тот усыновил Роберта, но это не изменило прав наследования. По ним наследник может сразу продать собственность, но право на владение не может передаваться никому из родственников. Это было сделано, чтобы помешать одному из членов семьи или нескольким родственникам, претендующим на эту собственность и оказывающим незаконное давление на наследника, получить ее. Что-то подобное случилось с одной из моих бабушек в пятнадцатом веке, и эту поправку включили по ее настоянию через много лет. Ее дочь влюбилась в валлийца, который оказался подлецом, – продолжала с улыбкой Элизабет. – Он хотел получить Хейвенхерст, а не дочь, и чтобы замок не достался ему, родители добавили последний кодицил [12] к правам наследования.
– Какой? – спросил Ян, заинтересованный историей, которую она так занимательно и умело рассказывала.
– Он указывает, что если наследник – женщина, она не может выйти замуж против воли опекуна. Теоретически это должно помешать девушке стать добычей явного негодяя. Видите ли, женщине не всегда легко сохранить свою собственность.
Ян видел только, что прекрасная девушка, отважно вставшая на его защиту в комнате, полной мужчин, целовавшая его с нежной страстью, сейчас, казалось, была страстно привязана, но не к какому-то мужчине, а к груде камней. Два года назад он пришел в бешенство, когда узнал, что она графиня, пустая дебютанточка, уже помолвленная с каким-то малокровным хлыщом, без сомнения, ищущая кого-нибудь, более возбуждающего, чтобы согреть ей постель. Однако сейчас Ян почему-то испытывал неловкость от того, что Элизабет не вышла замуж за своего хлыща. Он уже был готов прямо спросить, почему не состоялась ее свадьба, когда она снова заговорила:
– Шотландия не такая, как я ее представляла.
– Чем же?
– Более дикая и первобытная. Я знаю, джентльмены имеют здесь охотничьи домики, но я полагала, что в них есть обычные удобства и слуги. А какой дом был у вас?
– Дикий и первобытный, – ответил Ян.
Пока Элизабет смущенно и с удивлением смотрела на него, он собрал остатки еды и гибким ловким движением встал на ноги.
– Вот он, – с иронией в голосе добавил Ян.
– Что? – Элизабет непроизвольно тоже поднялась.
– Мой дом.
Горячая краска смущения залила гладкие щеки Элизабет, когда они посмотрели друг на друга. Ян стоял перед ней, ветер шевелил его волосы, на суровом красивом лице – печать благородства и гордости, от сильного тела исходила грубая сила, и она подумала, что он кажется таким же твердым и несокрушимым, как скалы его родной земли. Элизабет открыла рот, намереваясь извиниться, но вместо этого нечаянно сказала то, что думала.
– Он подходит вам, – тихо произнесла она.
Под его бесстрастным взглядом Элизабет стояла совершенно неподвижно, не в силах ни покраснеть, ни отвести глаза, ее нежное прекрасное лицо обрамлял ореол золотистых волос, развевающихся под беспокойным ветерком – восхитительное олицетворение хрупкости, казавшейся совсем маленькой возле стоящего перед ней мужчины. Свет и мрак, хрупкость и сила, упрямая гордость и железная воля – две противоположности почти во всем. Когда-то несходство соединило их; теперь – разделяло. Они оба стали старше и мудрее – и были убеждены, что достаточно сильны для того, чтобы противостоять и отмахнуться от медленно возникающей между ними страсти, здесь на обрыве, покрытом травой.
– Однако он не подходит вам, – спокойно заметил Ян.
Его слова вырвали девушку из страшного наваждения, которое, казалось, окружало их.
– Нет, – согласилась Элизабет беззлобно, зная, каким оранжерейным цветком она, должно быть, казалась в своих легкомысленных платьях и изящных туфельках.
Наклонившись, молодая леди сложила одеяло, тем временем Ян вошел в дом и стал собирать ружья, чтобы почистить и проверить их перед завтрашней охотой. Элизабет наблюдала, как он снял ружья с полки над очагом, и взглянула на письмо, которое начала писать Александре. Его нельзя было отослать, пока она не вернется домой, поэтому не имело смысла торопиться его закончить. С другой стороны, делать было почти нечего, поэтому Элизабет села и начала писать.
Она дошла до середины письма, когда снаружи раздался выстрел, и привстала от неожиданности и испуга. Удивляясь, во что можно стрелять так близко от дома, подошла к двери и, выглянув, увидела, как Ян зарядил пистолет, лежавший вчера на столе. Он поднял руку, целясь в какую-то неизвестную цель, и выстрелил. Снова зарядил и выстрелил. Любопытство заставило Элизабет выйти, она сощурилась, чтобы рассмотреть, куда он попал, если вообще попал во что-нибудь.
Уголком глаза Ян заметил, как мелькнуло платье цвета персика, и повернулся.
– Попали в цель? – спросила Элизабет, немного смущенная, что ее застали, когда смотрела на него.
– Да. – Так как она вынуждена оставаться здесь и, очевидно, знает, как заряжать оружие, Ян подумал, что вежливость требует, чтобы он, по крайней мере, предложил ей маленькое развлечение. – Хотите испытать свое искусство?
– Это зависит от размера мишени, – ответила Элизабет, но уже шла вперед, чувствуя себя до глупости счастливой, что есть занятие, кроме написания писем. Она не задумалась о том и в мыслях никогда себе такого не позволяла, что ей необычно нравится его общество, когда он хочет быть приятным.
– Кто учил вас стрелять? – спросил Ян, когда девушка остановилась рядом с ним.
– Наш кучер.
– Уж лучше кучер, чем ваш брат, – усмехнулся Ян, подавая ей заряженное ружье. – Мишень – это голый сук вон там – тот, на котором посередине висит листок.
Элизабет вздрогнула от саркастического тона при упоминании дуэли.
– Я искренне сожалею об этой дуэли, – сказала она, затем на мгновение сосредоточила все свое внимание на маленьком сучке.
Опершись плечом о ствол дерева, Ян с интересом смотрел, как она ухватилась за тяжелое ружье обеими руками и подняла его, от напряжения прикусив губу.
– Ваш брат очень плохой стрелок, – заметил он.
Элизабет выстрелила, точно попав в черенок листа.
– А я нет, – скрывая довольную улыбку, сказала она. А затем, поскольку опять возник разговор о дуэли, а ему, кажется, хотелось пошутить на этот счет, попыталась подыграть ему:
– Если б я была там, я уверена, я бы…
Он поднял бровь:
– Подождали бы сигнала к выстрелу, я надеюсь?
– Ну, и это тоже, – сказала она с погасшей улыбкой, ожидая, что он не поверит ее словам.
А в этот момент Ян, пожалуй, верил, что Элизабет подождала бы сигнала. Несмотря на то, что он знал, какая она, глядя на нее, Торнтон видел сильный дух и юную отвагу. Элизабет вернула ему ружье, и тот дал ей другое, уже заряженное.
– Последний выстрел был неплох, – сказал Ян, оставив тему дуэли. – Однако цель – сучок, а не листья. Кончик сучка, – добавил он.
– Вы, должно быть, сами промахнулись, – возразила она, подняв ружье и старательно прицеливаясь. – Так как сучок еще на месте.
– Правильно, но он был длиннее, когда я начал.
Элизабет тотчас же забыла, что делает, и смотрела на него с недоверием и изумлением.
– Вы хотите сказать, что вы сбивали его кончик?
– По кусочку, – сказал он, ожидая ее следующего выстрела.
Она попала в другой лист на ветке и отдала ему ружье.
– Неплохо, – похвалил Ян.
Она была великолепным стрелком, и его улыбка, когда он дал ей вновь заряженное ружье, говорила, что он знает об этом. Элизабет покачала головой.
– Я бы посмотрела, как вы сделаете это.
– Сомневаетесь в моих словах?
– Ну, просто, скажем, отношусь немного скептически.
Взяв ружье, Ян быстрым движением поднял его и, не задерживаясь, чтобы прицелиться, выстрелил. Кусок сука в два дюйма отлетел в сторону и упал на землю.
Элизабет была так поражена, что засмеялась вслух.
– Знаете, – воскликнула она с восхищенной улыбкой. – Я до этой минуты не совсем верила, что вы действительно хотели отстрелить кисточку у Роберта с сапога.
Он взглянул на нее насмешливо, перезаряжая ружье и подавая ей.
– В тот момент я испытывал сильное искушение прицелиться во что-то более уязвимое.
– Но вы не прицелились все же, – напомнила она, взяла ружье и повернулась к цели.
– Отчего вы так уверены?
– Вы сами мне сказали, что не верите, будто надо убивать людей из-за разногласий.
Она подняла ружье, прицелилась и выстрелила, начисто промахнувшись.
– У меня очень хорошая память.
Ян выбрал другое ружье.
– Странно слышать это, – растягивая слова, сказал он, поворачиваясь к мишени, – поскольку, когда мы встретились, вы забыли, что помолвлены. Между прочим, а кто был этот хлыщ? – спросил Ян равнодушно, прицеливаясь, стреляя и снова точно попадая в цель.
Элизабет перезаряжала ружье и чуть-чуть замешкалась, а затем продолжала свое дело. Заданный небрежным тоном вопрос доказывал, что она была права в своих предположениях. Флирт явно не принимался всерьез теми, кто был достаточно опытен, чтобы заниматься им. Впоследствии, как сейчас, очевидно, принято подшучивать из-за этого друг над другом. Пока Ян заряжал два других ружья, Элизабет размышляла, насколько приятнее открыто шутить об этом, чем лежать, снедаемая стыдом и горечью без сна в темноте. Какой глупой была она. Какой глупой покажется, если не будет говорить об этом открыто и весело. Однако немного странно – и довольно смешно – обсуждать это под грохот выстрелов. Она улыбалась как раз от этой самой мысли, когда он подал ей ружье.
– Виконт Мондевейл нисколько не «хлыщ», – сказала Элизабет, поворачиваясь, чтобы прицелиться.
Ян удивленно посмотрел, но его голос ничего не выражал:
– Мондевейл, так это он?
– М-м-м. – Элизабет снесла кончик сучка и засмеялась от восторга. – Попала! Это три в вашу пользу и один в мою.
– Шесть в мою, – шутливо поправил он.
– В любом случае я догоняю, берегитесь!
Ян подал ей ружье, и Элизабет прищурилась, старательно прицеливаясь.
– Почему вы отказались?
От удивления она застыла, затем, стараясь подражать его шутливому тону, сказала:
– Виконт Мондевейл оказался несколько чувствителен к таким вещам, как его невеста, бегающая по лесным домикам и оранжереям с вами.
Элизабет выстрелила и промахнулась.
– Сколько претендентов в этом Сезоне? – как бы между прочим спросил он, поворачиваясь к мишени и делая паузу, чтобы протереть ружье.
Она знала, что он имеет в виду претендентов на ее руку, и гордость абсолютно не позволяла ей сказать, что их нет и давно не было.
– Ну… – сказала она, подавляя гримасу при мысли о ее толстом женихе с домом, полным купидонов, рассчитывая на то, что Ян не вращается в узких кругах «света», поэтому не может много знать об обоих женихах. Он поднял ружье, когда она сказала: – Во-первых, есть сэр Фрэнсис Белхейвен.
Вместо того, чтобы тотчас же выстрелить, как делал раньше, ему, казалось, потребовалось довольно долгое время, чтобы прицелиться.
– Белхейвен – старик, – сказал он.
Ружье выстрелило, и сучок отлетел в сторону. Когда он посмотрел на нее, его глаза были холодны, как будто она упала в его глазах. Элизабет сказала себе, что это ей кажется, и решила сохранить атмосферу легкой непринужденности. Поскольку была ее очередь, она взяла ружье и подняла его.
– А кто другой?
Обрадованная, что он не сможет придраться к возрасту ее затворника-спортсмена, чуть высокомерно улыбнулась.
– Лорд Джон Марчмэн, – сказала она и выстрелила.
Взрыв смеха Яна почти заглушил грохот выстрела.
– Марчмэн! – воскликнул он, когда она сердито посмотрела и уперлась прикладом ружья ему в живот. – Вы, должно быть, шутите!
– Вы испортили мне выстрел, – напала Элизабет на него.
– Стреляйте еще раз, – сказал он, смотря на нее одновременно с насмешкой, недоверием и веселым интересом.
– Нет, я не могу стрелять, когда вы смеетесь. И буду признательна, если перестанете так глупо ухмыляться. Лорд Марчмэн – очень приятный человек.
– Он действительно приятный, – сказал Ян с раздражающей ее усмешкой. – И чертовски удачно, что вы любите стрелять, потому что он спит с ружьями и удочками. Вы проведете всю свою оставшуюся жизнь, перебираясь через реки и таскаясь по лесам.
– Так случилось, что я люблю ловить рыбу, – сообщила она, безуспешно пытаясь сохранить самообладание. – А сэр Фрэнсис, может быть, и немножко старше меня, но пожилой муж может оказаться добрее и терпимее, чем молодой.
– Ему придется быть терпимее, – резко сказал Ян, снова берясь за ружья, – или в противном случае чертовски хорошо стрелять.
Элизабет рассердили его нападки на нее, когда она только что придумала, что они должны относиться к происшедшему с легкостью и изяществом.
– Должна сказать, вы очень несдержанны и очень непоследовательны.
Его темные брови сдвинулись, и их перемирие начало разваливаться.
– Что, черт возьми, вы хотите этим сказать?
Элизабет вскинула голову, презрительно глядя на него с видом надменной аристократки, какой ей и полагалось быть по происхождению.
– Я хочу сказать, – пояснила она, с огромным трудом стараясь говорить холодно и ясно, – что вы не имеете права вести себя так, как будто я совершила что-то плохое, в то время как, по правде говоря, вы сами считаете это пустяком, всего лишь ничего не значащим развлечением. Вы так сказали, поэтому нет смысла это отрицать!
Прежде чем заговорить, он закончил заряжать ружье. В противоположность мрачному выражению лица его голос был абсолютно бесстрастным:
– Очевидно, у меня не такая хорошая память, как у вас. Кому я это сказал?
– Моему брату, например, – сказала она, рассерженная его притворством.
– А, да, благородному Роберту, – ответил Ян, с сарказмом подчеркивая слово «благородный».
Он повернулся к мишени и выстрелил, но пуля прошла далеко от цели.
– Вы даже не попали в то дерево, – с удивлением заметила Элизабет. – Я думала, вы сказали, что собираетесь почистить ружья, – добавила она, когда он начал методично укладывать их в кожаные чехлы, думая о чем-то другом.
Ян поднял голову, но у нее было ощущение, что он почти забыл о ее присутствии.
– Я решил сделать это завтра.
Ян вошел в дом, привычно положил ружья на полку над камином, затем подошел к столу, в раздумье сдвинув брови, взял бутылку мадеры и налил вина в стакан. Он убеждал себя, что то, что она должна была почувствовать, когда брат передал ей эту ложь, ничего не меняет. Во-первых, в то время Элизабет уже была помолвлена и, по собственному признанию, считала их отношения флиртом. По ее гордости, должно быть, был нанесен вполне заслуженный удар, вот и все. Далее, сердито напомнил себе Ян, он практически был помолвлен, к тому же с прекрасной женщиной, которая заслуживала лучшего с его стороны, чем эта глупая возня с Элизабет Камерон.
«Виконт Мондевейл оказался несколько чувствителен к таким вещам, как его невеста, бегающая по лесным домикам и оранжереям с вами…» – сказала она.
Очевидно, ее жених от нее отказался из-за него. Ян почувствовал укор совести, от которого не смог полностью избавиться. Он лениво протянул руку к бутылке мадеры, собираясь предложить вина Элизабет. Возле бутылки лежало письмо, которое перед этим писала Элизабет. Оно начиналось так:
«Дорогая Алекс…».
Но не эти слова заставили его стиснуть челюсти, а почерк. Аккуратный и четкий почерк образованного человека. Так мог бы писать монах. Это не были детские неразборчивые каракули, как в той записке, которую ему пришлось с трудом разбирать, прежде чем он понял, что она хочет встретиться с ним в оранжерее. Ян взял письмо, смотря на него и отказываясь верить, совесть начинала мучить его сильнее, чем можно было ожидать. Он увидел себя обольщающим ее в этой проклятой оранжерее, и горькое чувство вины пронзило его.
Ян залпом выпил мадеру, как будто она могла смыть отвращение к самому себе, охватившее его, затем повернулся и медленно вышел из дома. Элизабет стояла на краю заросшего травой плато в нескольких ярдах от того места, где они состязались в стрельбе. Ветер шелестел в деревьях и развевал великолепные волосы на ее плечах, как сверкающую вуаль. Он остановился в нескольких шагах, смотрел на нее, но видел ее такой, какой она была когда-то, – юная богиня в ярко-голубом, спускающаяся по лестнице, гордая, недосягаемая, разгневанный ангел, бросающий вызов толпе мужчин в карточном зале, очаровательная искусительница в лесном домике, распускающая мокрые волосы у огня и, наконец, испуганная девушка, выставившая перед его руками цветочные горшки, чтобы помешать ему поцеловать ее. Ян глубоко вздохнул и сунул руки в карманы, чтобы они не потянулись к ней.
– Здесь великолепный вид, – заметила она, взглянув на него.
Вместо ответа на ее замечание Ян хрипло и медленно вдохнул и резко сказал:
– Я бы хотел, чтобы вы еще раз рассказали мне, что случилось в тот последний вечер. Почему вы оказались в оранжерее.
Элизабет подавила раздражение.
– Вы знаете, почему я оказалась там. Вы послали мне записку. Я подумала, что она от Валери – сестры Харисы, – и пошла в оранжерею.
– Элизабет, я не посылал записки, я получил ее.
Сердито вздохнув, Элизабет прислонилась плечом к дереву позади него.
– Я не понимаю, почему мы должны повторять все с начала. Вы не хотите верить мне, а я не могу верить вам.
Она ожидала взрыва гнева, вместо этого он сказал:
– Я верю вам. Я видел письмо, которое вы оставили на столе в доме. У вас красивый почерк.
Совершенно растерявшись от его серьезного спокойного тона и комплимента, она, не отрываясь, смотрела на него.
– Благодарю вас, – нерешительно сказала Элизабет.
– Записка, которую вы получили, – продолжал он. – Каким почерком она была написана?
– Ужасным, – ответила Элизабет и, подняв брови, добавила: – вы неправильно нависали «оранжерея».
На его губах показалась невеселая улыбка.
– Уверяю вас, я знаю, как оно пишется, и хотя мой почерк, может быть, не так хорош, как ваш, но это все же не неразборчивые каракули. Если вы сомневаетесь, буду счастлив доказать это, когда мы вернемся в дом.
В эту минуту Элизабет поняла, что он не лжет, и ужасное чувство, что ее предали, начало проникать в ее сознание при его последних словах:
– Мы оба получили записки, которые ни один из нас не писал. Кто-то хотел, чтобы мы пошли туда, я думаю, для того, чтобы нас там застали.
– Никто не мог быть так жесток! – вырвалось у Элизабет, она покачала головой, сердцем пытаясь не верить, а умом сознавая, что это, должно быть, правда.
– Кто-то смог.
– Не говорите так, – воскликнула она, не в силах перенести еще одно предательство в ее жизни. – Я не поверю этому! Это, должно быть, ошибка, – горячо возразила она.
Но картины случившегося в тот уик-энд уже возникали в ее памяти: Валери, настаивающая, что Элизабет – единственная, кто может настолько очаровать Яна Торнтона, что он пригласит ее на танец… Валери, задающая ехидные вопросы после возвращения Элизабет из лесного домика… Лакей, подающий ей записку и сообщающий, что она от Валери. Валери, которую считала подругой. Валери с хорошеньким личиком и настороженными глазами.
Боль от предательства почти согнула Элизабет, и она обхватила себя руками, чувствуя, что разрывается на кусочки.
– Это Валери, – с трудом сумела она произнести. – Я спросила лакея, кто дал ему записку, и он сказал: Валери. – Элизабет вздрогнула от злобной чудовищности этого поступка. – Потом я предположила, что вы поручили ей передать записку, а она дала ее лакею.
– Я бы никогда не сделал ничего подобного, – отрывисто сказал Ян. – Вы и так были в ужасе, что нас могут увидеть.
От того, что происшедшее тогда вызвало его гнев, все стало казаться еще хуже, потому что даже он не мог с легкостью отмахнуться от этого. Проглотив комок в горле, Элизабет закрыла глаза и увидела Валери, катающуюся в парке с Мондевейлом. Жизнь Элизабет была разбита – и все потому, что кто-то, кому верила, захотел получить ее жениха. Слезы жгли ей глаза, и она сказала прерывающимся голосом:
– Это была шутка. Шутка погубила мою жизнь.
– Почему? – спросил он. – Почему она так поступила с вами?
– Я думаю, ей был нужен Мондевейл, и… – Элизабет знала, что расплачется, если будет говорить дальше, покачала головой и хотела повернуться, чтобы найти место, где могла бы выплакать свое горе в одиночестве.
Не в силах позволить ей уйти, не попытавшись хотя бы утешить. Ян взял ее за плечи и привлек к своей груди, прижимая сильнее, когда она пыталась вырваться.
– Не надо, пожалуйста, – прошептал он, касаясь губами ее волос. – Не уходите. Она не стоит ваших слез.
Шок от того, что снова оказалась в его объятиях, был таким же сильным, как и горе, и оба эти чувства совершенно парализовали Элизабет. Опустив голову, она молча стояла, слезы катились из глаз, а тело вздрагивало от подавляемых рыданий.
Ян еще крепче прижал девушку к себе, как будто ее близость могла помочь ему вобрать в себя ее боль, а когда через несколько минут Элизабет все еще не успокоилась, просто от отчаяния он начал поддразнивать девушку.
– Если б Валери знала, как вы хорошо стреляете, – прошептал он, преодолевая что-то, необычно сжимающее ему горло, – она бы никогда не посмела. – Его рука поднялась к мокрой щеке и привлекла девушку к груди. – Вы могли бы в любое время послать ей вызов. – Судорожная дрожь хрупких плеч Элизабет начала затихать, и Ян добавил притворно суховатым тоном: – Еще лучше, если б на вашем месте оказался Роберт. Стрелок он не такой хороший, как вы, но уж очень быстр… – Она усмехнулась сквозь слезы, и Ян продолжал: – С другой стороны, если у вас в руках пистолет, вы должны выбирать, а это не просто.
Когда он замолчал, Элизабет слегка вздохнула.
– Что выбирать? – наконец, прошептала она через некоторое время, обращаясь к его груди.
– Прежде всего, куда стрелять, – пошутил он, гладя ее по спине. – На Роберте были ботфорты, поэтому я целился в кисточку. Хотя, полагаю, вы могли бы сбить бантик с платья Валери.
Плечи Элизабет вздрогнули, и послышался приглушенный смешок.
Почувствовав огромное облегчение, Ян, по-прежнему обнимая девушку левой рукой, нежно двумя пальцами взял ее за подбородок, чтобы видеть лицо. Ее великолепные глаза еще были мокры от слез, но на розовых губах дрожала улыбка. Он продолжал шутливо:
– Для такого опытного стрелка бантик – не трудная задача. Думаю, вы могли бы потребовать, чтобы она держала между пальцами сережку, и вы могли бы выбить ее вместо бантика.
Картина была настолько смешна, что Элизабет засмеялась.
Не сознавая, что делает, Ян провел пальцем от подбородка до ее нижней губы и тихонько поглаживал притягательную нежную кожу. Наконец, он опомнился и остановился.
Элизабет увидела, как выступили скулы на его лице. Она судорожно вздохнула, чувствуя, что он чуть не поцеловал ее. Пережив за последние минуты такое потрясение, Элизабет не знала, кто друг или враг, она только знала, что в его объятиях чувствует себя в безопасности, и в этот момент его руки начали ослабевать, и на лице появилась отчужденность. Не уверенная, что собирается сказать или выразить, она дрожащим голосом прошептала единственное слово, полное смущения и мольбы, чтобы он понял. Ее зеленые глаза старались поймать его взгляд.
– Пожалуйста…
Ян понял, о чем она просит, но в ответ вопросительно поднял брови.
– Я… – начала она, с неловкостью чувствуя его понимающий взгляд.
– Да? – поддержал он.
– Я не знаю – вот именно, – призналась Элизабет. Все, что она знала наверняка – это остаться в его объятиях еще хотя бы на несколько минут.
– Элизабет, если вы хотите, чтобы вас поцеловали, то для этого нужно только прижать ваши губы к моим.
– Что?!
– Вы слышали.
– Из всех самонадеянных…
Он с легким укором покачал головой.
– Избавьте меня от протестов возмущенной невинности. Если вдруг вам стало интересно, как и мне, узнать, было ли нам так хорошо друг с другом, как это кажется сейчас в воспоминаниях, тогда так и скажите.
Свое собственное предложение удивило Яна, хотя, сказав это, он не видел большой беды в том, что они обменяются поцелуями, если именно этого ей хочется.
Его слова, что им было «хорошо друг с другом», растопили ее гнев и в то же время привели в замешательство. Она ошеломленно смотрела на Яна, в то время как его руки чуть сильнее сжимали ее плечи. Смущенная, Элизабет решилась посмотреть на его прекрасно вылепленные губы, глядя, как легкая улыбка, улыбка, бросающая ей вызов, подняла уголки губ, а руки понемногу притягивали ее все ближе.
– Боитесь узнать? – спросил Ян, и в его голосе слышалась та же хрипотца, которую она помнила, и которая снова околдовывала ее, точно так же, как это было когда-то. Его руки скользнули на ее талию. – Решайте, – прошептал он.
И Элизабет, охваченная чувством одиночества и желанием, не протестовала, когда Ян наклонился к ней. Она была потрясена, когда его губы коснулись ее губ, теплые, зовущие – легко то прикасаясь, то отрываясь от них. Не в состоянии пошевелиться, она ожидала ту оглушительную страсть, которую он проявил тогда, не понимая, что в тот момент она сама во многом помогла разжечь ее. Неподвижно и напряженно Элизабет ждала, что испытает тот запретный взрыв беспредельного наслаждения… хотела испытать его, лишь раз, лишь на одну минуту. Вместо этого его поцелуй был легок, как пушинка, чуть ощутимый… дразнящий!
Она сжалась, чуть отодвинулась, а он медленно отвел взгляд от ее губ и посмотрел ей в глаза. Холодно произнес:
– Это не совсем то, что я запомнил.
– И я, – призналась Элизабет, не понимая, что он имеет в виду ее бесчувственность.
– Хотите попробовать еще? – предложил Ян, все еще не желая отказаться от нескольких приятных минут взаимной страсти, но, со своей стороны, не теряя контроля над собой.
Легкая насмешка в его тоне вызвала, наконец, у Элизабет подозрение, что он относится к этому как к какой-то забавной игре или состязанию, и с изумлением посмотрела на него.
– Это что – состязание?
– Хотите превратить это в состязание?
Элизабет покачала головой и сразу отказалась от тайных воспоминаний о нежности и бурной страсти. Как и все другие ее иллюзии на его счет, эта тоже, очевидно, была ошибкой. С гневом и грустью она взглянула на него и сказала:
– Не думаю.
– Почему же?
– Вы играете в игру, – честно ответила она, в мыслях сдаваясь от усталости и отчаяния, – а я не понимаю правил.
– Они не изменились, – сказал Ян. – Это та же игра, что и раньше, я целую вас, и, – многозначительно подчеркнул он, – вы целуете меня.
Открытое обвинение в бесстрастности вызвало в ней сильное замешательство и одновременно желание ударить его по ноге, но рука Яна крепко обняла ее талию, в то время как другая медленно скользящим движением поднялась к затылку и гладила его чувственными прикосновениями.
– Как вы это запомнили? – поддразнил он, приближая губы. – Покажите мне.
Ян провел губами по ее губам, слегка касаясь, и, несмотря на насмешливый тон, на этот раз в этом прикосновении были и требовательность и вызов. Элизабет медленно отзывалась, приникнув к нему, ее рука осторожно провела вверх по его шелковой рубашке, и она почувствовала, как напрягаются его мышцы и как крепче ее привлекает его обнимающая рука. Его полуоткрытые губы прижались к ее губам, и сердце Элизабет забилось резкими толчками. Он коснулся ее губ языком, дразнящим и зовущим, и она потеряв самообладание, могла ответить только одним – с неистовостью поцеловала Яна, позволяя кончику его языка раскрыть ее губы, не протестуя.
Элизабет почувствовала резкий вдох Яна в тот момент, когда тот ощутил, как желание забилось в его крови. Он велел себе отпустить ее, пытался это сделать, но ее руки гладили его волосы на затылке, а губы с мучительной сладостью отвечали на поцелуй. С усилием Ян поднял голову, не в силах хоть чуть-чуть оторваться от этих чувственных губ.
– Черт-ртт! – прошептал он, но руки уже прижимали всю ее к его напрягшемуся телу.
Сердце Элизабет билось, как дикая птица в клетке, она смотрела в эти горящие глаза, а его рука погрузилась в ее волосы, не давая ей повернуть голову, когда он резко наклонился к ней. Его пылающие губы прижались к ее губам, требовательно и настойчиво, и тело Элизабет, не сопротивляясь, откликнулось на эту чувственную близость, она обняла Яна и приникла к нему, целуя его. Кончиком языка он грубо раскрыл ее губы, как бы ожидая протеста. Но Элизабет не протестовала, она втянула его язык в рот, а пальцами, нежно касаясь, поглаживала лицо и голову Яна невинными легкими движениями. Желание оглушающими волнами охватывало Торнтона, рукой держащей девушку за талию, он прижал ее вплотную к твердому поднявшемуся свидетельству его желания, сливаясь своими губами с ее, целуя их с требовательной яростью, которую не мог сдерживать. Руки Яна ласкали Элизабет, затем судорожно сжались в кулаки, когда она всем телом плотнее прижалась к нему, не чувствуя – или не обращая внимания на откровенное свидетельство его желания, настойчиво упирающееся в нее.
Непроизвольно его руки потянулись к ее груди, он понял, что делает, оторвался от ее губ и, смотря невидящим взглядом поверх ее головы, как бы заспорил с собой, поцеловать ли еще раз или попытаться каким-то образом превратить все в шутку. Ни одна из женщин, которых он когда-либо знал, не разжигала в нем такого неукротимого взрыва страсти всего лишь несколькими поцелуями.
– Это было так, как я помню, – прошептала Элизабет, и это звучало, как будто она проиграла или была озадачена и потрясена.
Все было лучше, чем он помнил. Сильнее, исступленнее… А она не знала этого только потому, что он все же не поддался искушению и не поцеловал ее еще раз.
Он только отказался от этой мысли, как совершенно безумной, когда позади них раздался мужской голос:
– Боже мой! Что здесь происходит!
Элизабет рванулась, охваченная паникой, и увидела пожилого человека средних лет в воротничке священника, бегущего через двор. Ян успокаивающе положил руку ей на талию, и она стояла, оцепенев от страха.
– Я слышал стрельбу, – задыхаясь, проговорил седовласый человек, без сил прислоняясь к ближайшему дереву, прижимая руку к сердцу и тяжело дыша, – я слышал ее всю дорогу, пока ехал из долины, и подумал…
Он замолчал, переводя острый взгляд с пылающего лица и растрепанных волос Элизабет на руку Яна, лежащую на ее талии.
– И что ты подумал? – спросил Ян голосом, поразившим Элизабет удивительным спокойствием, принимая во внимание, что их застал в грешном объятии не кто иной, как страшный шотландский священник.
Эта мысль едва мелькнула в ее смятенном уме, когда мужчина понял, и его лицо приняло суровое выражение.
– Я подумал, – сказал он с иронией, отстранился от дерева и выступил вперед, стряхивая кусочки коры с черного рукава, – что вы пытаетесь убить друг друга. Что, – более спокойно продолжал священник, останавливаясь перед Элизабет, – мисс Трокмортон-Джоунс считала вполне возможным, когда отправляла меня сюда.
– Люсинда? – ахнула Элизабет, чувствуя, что весь мир переворачивается перед ее глазами. – Люсинда прислала вас сюда?
– Именно так, – сказал священник, неодобрительно глядя на руку Яна, обнимающую талию девушки.
Униженная до глубины души сознанием, что продолжает стоять в этом полуобъятии Яна, Элизабет поспешно оттолкнула его руку и отошла в сторону. Она приготовилась к вполне заслуженной, грозной тираде о греховности их поведения, но священник по-прежнему смотрел на Яна в ожидании, подняв густые седые брови. Чувствуя, что не может вынести этого напряженного молчания, Элизабет умоляюще посмотрела на Яна и увидела, что тот смотрит на священника, не выражая ни стыда, ни раскаяния, а только с раздражением и насмешкой.
– Ну, – наконец, глядя на Яна, требовательно спросил священник. – Что ты должен мне сказать?
– Добрый день? – предположил Ян шутливо. А затем добавил: – Я ожидал тебя только завтра, дядя.
– Это и видно, – ответил священник, не скрывая иронии.
– Дядя! – воскликнула Элизабет, изумленно глядя на Яна, который с первой же встречи с ней страстными поцелуями и ласками показал свое чудовищное пренебрежение к законам морали.
Как бы читая мысли, священник посмотрел на нее, в его карих глазах таилась насмешка.
– Поразительно, правда, моя дорогая? Это убеждает меня, что у Бога есть чувство юмора.
Элизабет захотелось истерически рассмеяться, увидев, как исчезает с лица Яна надменное выражение, когда священник тут же начал рассказывать, какое мучение быть дядей Яна.
– Вы представить не можете, как утомительно утешать рыдающих молодых дам, которые расточают свои чары в надежде, что Ян исполнит свой долг, – сказал он Элизабет. – И это еще ничто по сравнению с тем, что я чувствовал, когда он выставил лошадь на скачках, и один мой прихожанин подумал, что я идеально подхожу для того, чтобы следить за ставками! – Смех Элизабет зазвенел среди холмов, и священник, не обращая внимания на недовольный вид Яна, весело продолжал: – Я стер колени, часами, неделями, месяцами молясь о его бессмертной душе…
– Когда ты закончишь перечислять мои прегрешения, Дункан, – прервал Ян, – я представлю тебя даме.
Вместо того, чтобы рассердиться на тон, каким это было сказано, священник имел довольный вид.
– Обязательно, Ян, – спокойно вымолвил он. – Мы всегда должны соблюдать все приличия.
И тут Элизабет внезапно поняла, что осуждающая тирада, которую она ожидала от священника, когда тот впервые увидел их, все же была произнесена – тонко и искусно. Разница была только в том, что добрый священник направил ее исключительно против Яна, снимая с Элизабет вину и избавляя от дальнейшего унижения.
Ян, очевидно, тоже понял это. Протягивая дяде руку, сухо сказал:
– Ты хорошо выглядишь, Дункан, несмотря на стертые колени. И, – добавил он, – могу тебя заверить, твои проповеди одинаково убедительны, независимо от того, стою я или сижу.
– Это оттого, что ты имеешь прискорбную привычку засыпать на середине и стоя, и сидя, – ответил священник, пожимая Яну руку.
Ян повернулся, чтобы представить Элизабет.
– Могу я представить леди Элизабет Камерон, мою гостью?
Элизабет подумала, что такое объяснение звучит намного хуже, чем то, что он видел, как она целовала Яна, поэтому поспешно покачала головой.
– Это не совсем так. Я – что-то вроде…
Она не могла придумать объяснение, и священник пришел ей на помощь.
– Путешественница, вынужденная здесь остановиться, – подсказал он. – Я прекрасно понимаю… Я имел удовольствие познакомиться с вашей мисс Трокмортон-Джоунс, и это она срочно отправила меня сюда, как я уже говорил. Я обещал пробыть здесь до завтра или послезавтра, когда она вернется.
– Завтра или послезавтра? Но они должны были вернуться сегодня.
– Произошел несчастный случай… небольшой, – поспешил он заверить. – Эта норовистая лошадь, на которой она ехала, как говорит Джейк, имеет привычку лягаться.
– Люсинда сильно пострадала? – спросила Элизабет, уже прикидывая в уме, как бы к ней поехать.
– Лошадь лягнула мистера Уайли, – поправил священник, – и единственное, что пострадало, так это его гордость и… его… э… нижняя часть. Однако мисс Трокмортон-Джоунс, справедливо считая, что лошадь как-то должна быть наказана, прибегла к единственному средству в ее распоряжении, так как, сказала она, ее зонтик, к несчастью, лежал на земле. Она ударила лошадь ногой, – объяснил он. – К сожалению, в результате достойная леди получила серьезное растяжение связок. Ей дали настойку опия, и моя экономка лечит ее ногу. Она должна поправиться настолько, чтобы вставить ногу в стремя, через день, самое большее, через два. – Повернувшись к Яну, сказал: – Я вполне понимаю, что застал тебя врасплох, Ян. Однако, если ты намерен отомстить и лишить меня стакана твоей превосходной мадеры, я могу остаться здесь на целые месяцы, а не до возвращения мисс Трокмортон-Джоунс.
– Я пойду и… приготовлю стаканы, – сказала Элизабет, вежливо стараясь оставить их наедине.
Направляясь к дому, она услышала слова Яна:
– Если ты рассчитываешь хорошо поесть, то ты пришел не в тот дом. Сегодня утром мисс Камерон уже попробовала принести себя в жертву на алтарь домашнего хозяйства, и мы оба чуть не умерли от ее попытки. Я готовлю ужин, – закончил Ян, – и он, может быть, будет не лучше.
– Я попробую приготовить завтрак, – с добродушным видом вызвался священник.
Когда Элизабет была достаточно далеко, чтобы слышать их, Ян тихо сказал:
– Насколько серьезно пострадала женщина?
– Трудно сказать, учитывая, что она слишком разгневана, чтобы выражаться ясно. Или это может быть из-за настойки опия.
– Что, из-за настойки?
Священник помолчал минуту, наблюдая за птичкой, прыгающей в шумящей над головой листве, затем сказал:
– Она была в странном состоянии. В полном смятении. И сердилась тоже. С другой стороны, она боялась, что ты можешь пожелать проявить к леди Камерон «нежное внимание», без сомнения, такое, какое ты ей оказывал, когда я приехал. – Увидев, что его выпад не вызвал у невозмутимого племянника ничего, кроме вопросительно поднятой брови, Дункан вздохнул и продолжал: – В то же время она также убеждена, что ее молодая леди может убить тебя из твоего собственного ружья, что, как я ясно понял из ее слов, молодая леди уже пыталась сделать. Вот чего я боялся, когда услышал выстрелы, и что заставило меня мчаться сюда галопом.
– Мы стреляли по мишеням. – Священник кивнул, но продолжал, нахмурясь, пристально смотреть на Яна. – Тебя еще что-то беспокоит? – спросил Ян, заметив его взгляд.
Священник колебался, затем слегка покачал головой, как бы прогоняя какую-то мысль.
– Мисс Трокмортон-Джоунс сказала больше, но едва ли этому можно верить.
– Без сомнения, это настойка опия, – заметил Ян и пожал плечами, не желая говорить на эту тему.
– Возможно, – сказал священник, снова нахмурившись. – А я вот не принимал опия, а мне кажется, что ты собираешься сделать предложение молодой женщине по имени Кристина Тэйлор.
– Собираюсь.
На лице Дункана появилось осуждение.
– Тогда чем ты объяснишь сцену, которую я только что видел всего несколько минут назад?
Голос Яна был резок:
– Безумием.
Они направились к дому, священник был молчалив и задумчив, Ян – мрачен. Его не беспокоил несвоевременный приезд Дункана, но сейчас, когда страсть остыла, он был взбешен, что потерял контроль над своим телом. В ту же минуту, как его губы коснулись Элизабет Камерон, Ян как будто потерял рассудок. Несмотря на то, что прекрасно знал, что она собой представляет, в его объятиях девушка становилась обольстительным ангелом. Эти слезы, которые Элизабет проливала сегодня из-за того, что ее обманула подруга. В то же время два года назад она практически наставила рога бедному Мондевейлу без малейшего угрызения совести. Сегодня Элизабет спокойно обсуждала замужество со старым Белхейвеном или Джоном Марчмэном, и не прошло и часа, как жадно прижималась к Яну, целуя его с безрассудной страстью. Гнев сменился отвращением. Ей следует выйти замуж за Белхейвена, с мрачным юмором подумал он. Старый развратник идеален для нее, они стоят друг друга во всем, кроме возраста. Марчмэн, с другой стороны, заслуживал значительно большего, чем неразборчивое потрепанное тельце Элизабет. Она превратит его жизнь в ад.
Несмотря на свое ангельское личико, Элизабет Камерон была такой же, как всегда: испорченным ребенком, умелой кокеткой, у которой страсть преобладала над разумом.
Под мерцающими в черном небе звездами, со стакан виски в руке Ян смотрел на горящий костер, на котором жарилась рыба. Тишина ночи и виски успокоили его. Сейчас, смотря на веселый огонек, он сожалел только о том, что приезд Элизабет лишил его мира и покоя, в которых Ян нуждался и ради которых приехал сюда. Почти год он работал в убийственном темпе и рассчитывал найти тот же покой, который всегда находил здесь, когда бы ни приезжал сюда.
Подрастая, Ян всегда знал, что уедет из этого места, найдет в мире свой собственный путь, и это ему удалось. И все же он всегда возвращался сюда, ища чего-то, чего еще не нашел, что-то неуловимое, что излечило бы его от чувства неприкаянности. Сейчас в его жизни были власть и богатство, такая жизнь устраивала его во многом. Он побывал слишком далеко, видел слишком много, и слишком переменился, чтобы попытаться жить здесь. Ян пришел к такому выводу, когда решил жениться на Кристине. Она никогда не полюбит это место, но будет царить во всех его домах с грацией и достоинством.
Кристина была красивой, утонченной и страстной. Она прекрасно подходила ему, иначе он не собрался бы сделать ей предложение. Прежде чем сделать его, Ян обдумал все, с тем же сочетанием бесстрастной логики и безошибочного инстинкта, которые были характерны для всех деловых решений – он взвешивал шансы на успех, быстро принимал решение и затем действовал. Практически за последние годы Торнтон совершил только один опрометчивый, необдуманный поступок, имевший какое-то значение, – это было его поведение в тот уик-энд, когда он встретил Элизабет Камерон.
– Очень нехорошо с вашей стороны, – улыбаясь, сказала ему Элизабет после ужина, убирая тарелки, – заставлять меня утром готовить, когда у вас это прекрасно получается.
– Не может быть, – ответил Ян мягко, наливая бренди в два стакана и направляясь с ними к очагу, перед которым стояли стулья. – Единственное, что я умею готовить – это рыбу, вот так, как мы ели сейчас. – Он подал стакан Дункану, затем сел и, подняв крышку шкатулки, стоящей на столе рядом с ним, вынул одну из тонких сигар, которые делали специально для него в Лондоне. Взглянув на Элизабет, по привычке спросил: – Вы не возражаете?
Элизабет посмотрела на сигару, улыбнулась и хотела покачать головой, но остановилась, внезапно перед ее глазами встала картина: как почти два года назад он стоял в саду. Тогда Ян собирался закурить одну из этих сигар, когда увидел ее, стоящей там и наблюдающей за ним. Она помнила это так ясно, что видела золотистое пламя, осветившее его чеканные черты, когда он прикрывал огонек ладонями, зажигая сигару. Улыбка на ее лице дрогнула от этого пронзительного воспоминания, и Элизабет перевела взгляд с сигары на лицо Яна, думая, помнит ли он тоже.
В его глазах был вежливый вопрос, он взглянул на незажженную сигару, потом опять на ее лицо. Ян не помнил, она видела, не помнил.
– Нет, совсем не возражаю, – сказала Элизабет, скрывая под улыбкой разочарование.
Священник, наблюдавший этот обмен взглядами, заметил слишком веселую улыбку Элизабет и счел этот инцидент таким же необъяснимым, как и поведение Яна в отношении молодой леди за ужином. Он поднес к губам бренди, незаметно наблюдая за девушкой, затем посмотрел на племянника, зажигающего сигару.
Отношение Яна поразило Дункана, как чрезвычайно странное. Обычно женщины считали Торнтона неотразимо привлекательным, и, как священник очень хорошо знал, тот никогда не отклонял из соображений морали то, что ему предлагали свободно и бесстыдно. Однако раньше он всегда относился к женщинам, падающим в его объятия, со смешанным чувством насмешливого терпения и легкой снисходительности. К его чести, даже потеряв к женщине интерес, Ян продолжал обращаться с ней с неизменной любезностью и вежливостью, будь она деревенская девушка или дочь графа.
Зная все это, Дункан справедливо находил удивительным или даже подозрительным, что два часа назад Ян сжимал в объятиях Элизабет Камерон так, как будто никогда не собирался отпустить ее, а сейчас не обращал на нее никакого внимания. Правда, было не к чему придраться в том, как он это делал, но вместе с тем игнорировал ее, это точно.
Священник продолжал наблюдать за Яном, почти ожидая, что тот украдкой посмотрит на Элизабет, но племянник взял книгу и читал ее с таким видом, как будто выбросил девушку из головы. Поискав тему для разговора, Дункан сказал Яну:
– Как я понимаю, в этом году дела у тебя шли хорошо?
Подняв голову, Ян ответил, слегка улыбнувшись:
– Не так хорошо, как я ожидал, но достаточно хорошо.
– Твои игры не полностью окупились?
– Не все.
Элизабет застыла на мгновение, затем взяла тарелку и начала вытирать ее, она не могла не обратить внимания на то, что услышала. Два года назад Ян сказал ей, что если у него дела пойдут хорошо, то сможет обеспечить ее. Очевидно, этого не случилось, чем и объясняется то, что он живет здесь. Ее сердце наполнилось сочувствием, она подумала, что его великие планы оказались бесплодными. С другой стороны, он живет не так уж плохо, как ему кажется, решила Элизабет, думая о девственной красоте окружающих холмов и уютном доме с большими окнами, из которых видна долина.
Даже с трудом этот дом нельзя было вообразить Хейвенхерстом, но в нем было свое первозданное великолепие. И еще он не требовал целого состояния для оплаты своего содержания и слуг, как Хейвенхерст, что было огромным преимуществом. Она не владела Хейвенхерстом, нет; он владел ею. Этот же красивый небольшой дом, с необычной соломенной кровлей и несколькими просторными комнатами, был прекрасен в этом отношении. Он давал кров и тепло, не требуя, чтобы тот, кто жил в нем, лежал по ночам без сна, обеспокоенный тем, что известь осыпается с камней, и сколько надо заплатить за починку одиннадцати печных труб.
Очевидно, Ян не понимал, как сильно ему повезло, иначе не тратил бы время в клубах для джентльменов, или других местах, где играл, в надежде выиграть состояние. Ему надо бы оставаться здесь, в этом суровом прекрасном месте, где он чувствовал себя так свободно, которому он принадлежал… Элизабет так погрузилась в эти размышления, что ей не приходило в голову, что она почти желает жить здесь.
Когда все было вытерто и поставлено на место, Элизабет решила подняться наверх. За ужином она узнала, что Ян давно не виделся с дядей, и чувствовала, что следует оставить их одних, чтобы они могли поговорить наедине.
Повесив на крючок полотенце, Элизабет развязала импровизированный передник и пошла сказать мужчинам спокойной ночи. Священник улыбнулся и пожелал ей приятных сновидений. Ян поднял голову и рассеянно сказал:
– Спокойной ночи.
Элизабет ушла наверх, а Дункан смотрел на племянника, погруженного в чтение, и вспоминал уроки в своем доме, которые давал Яну, когда тот был мальчиком. Как и отец Яна, Дункан был умен и имел университетское образование. К тому времени, когда Яну исполнилось тринадцать, тот уже прочитал и изучил все университетские учебники и искал ответы на новые вопросы. Его жажда знаний была неутомима, а ум настолько незауряден, что оба – и Дункан, и отец Яна – испытывали немалый страх. Без пера и бумаги Ян в уме мог вычислить сложные математические условные вероятности, и решить уравнения, находя ответ раньше, чем Дункан успевал найти метод решения.
Среди прочих вещей эти редкие математические способности Яна дали возможность накопить состояние, играя; он мог вычислить шансы «за» и «против» в отдельной карточной партии и в одном повороте колеса рулетки, с потрясающей точностью – что когда-то священник объявил абсолютно пустой тратой Богом данных гениальных способностей. В Яне сочетались спокойная надменность его благородных британских предков и горячий темперамент и гордое упрямство предшествующих поколений шотландцев, и это сочетание создало выдающегося человека, который сам принимал решения и никому не позволял сбить себя с пути, когда решение было принято. А почему он должен позволять, думал священник с неприятным предчувствием обреченности, когда размышлял над тем, что ему было необходимо обсудить с племянником. Суждения Яна во многом были почти безошибочны и в то же время человечны, и он полагался на них охотнее, чем на чье-то еще мнение.
Только в одном его суждение не было безупречным, как считал Дункан, и это в том, что касалось его английского деда. Только упоминание имени герцога Стэнхоупа приводило Яна в ярость, и хотя Дункан хотел обсудить этот старый вопрос еще раз, он не решался начать разговор на эту щекотливую тему. Несмотря на глубокую привязанность и уважение, которые Ян питал к священнику, Дункан знал: племянник обладал почти пугающей способностью отвернуться от того, кто заходил слишком далеко, или от того, что слишком глубоко ранило его.
Воспоминание о том дне, когда девятнадцатилетний Ян вернулся из своего первого путешествия, заставило священника нахмуриться от незабытой боли и чувства своей беспомощности. Родители Яна взяли с собой его сестру и, сгорая от нетерпения скорее увидеться с ним, поехали в Хернлох, чтобы встретить корабль и сделать сыну сюрприз.
Ночью за двое суток до того, как корабль Яна вошел в порт, маленькая гостиница, в которой спала счастливая семья, сгорела дотла, и все трое погибли в огне. Ян проехал мимо обгоревших развалин по пути к дому, так никогда и не узнав, что место, которое миновал, было погребальным костром его семьи.
Он приехал домой, где его ждал Дункан, чтобы сообщить ему страшное известие.
– А где все? – спросил Ян, улыбаясь и сбрасывая на пол дорожную одежду. Он быстро обошел весь дом, заглядывая в пустые комнаты.
Единственным, кто встретил Торнтона, была его собака, ньюфаундленд, которая, заливаясь лаем, вбежала в дом и остановилась у ног Яна. Тень, – названная так не за темный окрас, а за безграничную преданность господину, которого она боготворила еще с тех пор, как была щенком, – безумно радовалась возвращению хозяина.
– Я тоже скучал по тебе, девочка, – промолвил Ян, опускаясь на корточки и гладя ее блестящую черную шерсть. – Я привез тебе подарок, – сказал он ей.
Она тотчас же перестала тереться о его ноги, наклонила голову набок, слушая хозяина, и не отрывала умных глаз от его лица. Между ними так было всегда – это странное почти сверхъестественное взаимопонимание между человеком и умной собакой, обожавшей его.
– Ян, – печально произнес священник.
И как будто расслышав боль в этом единственном слове, рука Яна замерла. Он медленно распрямился и повернулся к священнику, собака села рядом с ним, смотря на Дункана с таким же внезапным волнением, которое было на лице хозяина.
Как можно осторожнее дядя сообщил племяннику о гибели его семьи, и несмотря на то, что Дункан хорошо научился утешать людей, потерявших своих близких, он никогда не встречался с таким глубоко скрытым, жестко сдерживаемым горем, которое проявил Ян, и священник был в полной растерянности, не зная, как ему к этому относиться. Ян не рыдал и не бушевал; все его лицо и тело окаменели, сдерживая невыносимую муку, отвергая ее, потому что он чувствовал, что она может убить его. В тот вечер, когда Дункан уезжал, Торнтон стоял у окна, смотря в темноту, собака была возле него.
– Возьми ее с собой в деревню и отдай кому-нибудь, – сказал он Дункану, решение звучало безвозвратно, как смерть.
Не поняв, Дункан остановился, не снимая руки с ручки двери.
– Кого взять с собой?
– Собаку.
– Но ты сказал, что собираешься остаться здесь по крайней мере на полгода, чтобы привести дела в порядок.
– Возьми ее с собой, – отрезал Ян.
В эту минуту Дункан осознал слова племянника и испугался.
– Ян, ради Бога, собака любит тебя. Кроме того, здесь она составит тебе компанию.
– Отдай ее Макмертонам в Калгорине, – резко сказал Ян.
И Дункан против своей воли взял не желающую уходить собаку с собой. Только веревка, обвязанная вокруг шеи ньюфаундленда, смогла заставить ее уйти от хозяина.
На следующей неделе отважная Тень нашла дорогу через все графство и появилась перед домом. Дункан был там и почувствовал, как сжалось у него от волнения горло, когда Ян решительно отказался замечать присутствие озадаченной этим собаки. На следующий день он сам вместе с дядей отвез ее обратно в Калгорин. После того, как Ян пообедал с семьей, Тень ждала перед домом, пока он сядет в седло, но когда она собралась следовать за ним, хозяин обернулся и сурово приказал остаться.
Тень осталась, потому что всегда слушалась приказа Яна.
Дункан пробыл еще несколько часов, и когда он уехал, Тень все еще сидела во дворе, ее глаза не отрывались от поворота дороги, голова в ожидании склонилась набок, как будто она отказывалась верить, что Ян в самом деле хотел оставить ее там.
Но Торнтон так никогда и не вернулся за ней. И впервые Дункан понял: Ян обладал настолько мощным умом, что мог им подавить все свои чувства, когда хотел этого. С холодной логикой он бесповоротно решил отдалиться от всего того, что могло бы напомнить ему о его потере и вновь заставить страдать. Портреты родителей и сестры и принадлежащие им вещи были аккуратно убраны в сундуки, и все, что осталось от них, – был дом. И его воспоминания.
Вскоре после их смерти, через три дня после пожара, прибыло письмо от деда Яна герцога Стэнхоупа. Два десятилетия спустя, после того, как он отрекся от сына за то, что тот женился на матери Яна, герцог написал ему, прося примирения. Ян прочитал письмо и выбросил. Когда ему причиняли зло, он был несгибаем и беспощаден, как скалистые холмы и суровые болота, которые породили его.
Он также был самым упрямым человеком, какого когда-либо знал Дункан. Когда Ян был еще мальчиком, сочетание в нем спокойной уверенности, блестящего ума и упрямства заставляли задумываться родителей. Как однажды шутливо заметил отец, говоря о своем одаренном сыне, «Ян позволяет нам воспитывать его, потому что любит нас, а не потому, что считает нас умнее. Он уже знает, что мы не умнее, но не хочет ранить наши чувства, признавая это».
Принимая во внимание способность Торнтона холодно отвернуться от любого, кто причинил ему зло, Дункан не питал особых надежд на то, что ему удастся смягчить отношение Яна к деду теперь, когда он не может в этом деле апеллировать ни к уму племянника, ни к его чувствам. Не сейчас, когда герцог Стэнхоуп значил для Яна намного меньше, чем его ньюфаундленд.
Погруженный в свои мысли, Дункан угрюмо смотрел на огонь, а в это время сидящий напротив него Ян отложил в сторону бумаги и наблюдал за ним в задумчивом молчании. Наконец, он сказал:
– Поскольку моя стряпня была не хуже, чем обычно, я полагаю, есть другая причина твоего мрачного вида?
Дункан кивнул и, все еще не избавившись от дурного предчувствия, встал и перешел к камину, подготавливая в уме аргументы, с которых он начнет разговор.
– Ян, твой дед написал мне, – начал священник, смотря, как исчезает добрая улыбка Яна и лицо превращается в каменное изваяние. – Он попросил меня выступить от его имени и уговорить тебя снова подумать о встрече с ним.
– Ты зря теряешь время, – холодно сказал Ян.
– Но он – твоя семья, – попытался снова Дункан.
– Вся моя семья сидит в этой комнате, – отрезал Ян. – Я не признаю другой.
– Ты – его единственный наследник, – упрямо настаивал Дункан.
– Это – его проблема, а не моя.
– Он умирает, Ян.
– Я не верю этому.
– А я верю ему. Более того, если б была жива твоя мать, она бы просила помириться с ним. Ее мучило всю жизнь, что он отказался от твоего отца из-за женитьбы на ней. Мне не надо напоминать тебе, что твоя мать была моей единственной сестрой. Я любил ее, и если я могу простить человеку то зло, которое он причинил ей своими поступками, я не понимаю, почему ты не можешь.
– Прощение – твоя профессия, – с ядовитым сарказмом сказал Ян. – Но не моя. Я верю: око за око.
– Я говорю тебе, он умирает.
– А я говорю тебе, – Ян произносил слова с жесткой отчетливостью, – мне наплевать!
– Если ты не считаешь нужным принять титул для себя, сделай это ради своего отца. Титул принадлежал ему по праву, так же, как твой будущий сын получит его по праву рождения. Это последняя возможность уступить, Ян. Твой дед дал мне две недели, чтобы повлиять на тебя, после чего он назначит другого наследника. Ты приехал сюда на целые две недели позднее. Может быть, уже слишком поздно…
– Слишком поздно было и одиннадцать лет назад, – ответил Ян с ледяным спокойствием, и затем на глазах священника лицо племянника резко и поразительно изменилось. Его скулы утратили жесткость, и он начал складывать бумаги в ящик. Покончив с ними, взглянул на Дункана и сказал с тихой усмешкой: – Твой стакан пуст, викарий. Хочешь еще?
Дункан вздохнул и покачал головой. Все кончилось так, как он предполагал и опасался: Ян мысленно захлопнул дверь перед дедом, и ничто никогда не изменит его решения. Дункан по опыту знал, что когда он становится спокойным и любезным, как сейчас, Ян – бесповоротно вне досягаемости. Так как вечер с племянником уже безвозвратно испорчен, Дункан решил, что ничего не потеряет, если обратится к другому деликатному делу, которое беспокоило его.
– Ян, об Элизабет Камерон. Ее дуэнья рассказала кое-что…
Та же пугающе приятная и в то же время холодная улыбка вновь появилась на лице Яна.
– Я избавлю тебя от продолжения разговора, Дункан. С этим покончено.
– С разговором или…
– Со всем.
– Мне так не показалось! – резко сказал Дункан, доведенный до предела дьявольским спокойствием Яна. – Сцена, которую я увидел…
– Ты увидел конец.
Он сказал это, как заметил Дункан, с той же бесповоротной решимостью, с тем же насмешливым спокойствием, с каким говорил о своем деде. Как будто Ян уже про себя разрешил все вопросы к своему полному удовлетворению и отложил их в такое место, куда ничто и никто не сможет проникнуть. На основании последней реакции племянника на вопрос об Элизабет Камерон она теперь относилась к той же категории, что и герцог Стэнхоуп. Расстроенный Дункан схватил бутылку бренди, стоящую у локтя Яна на столе, и плеснул немного в стакан.
– Есть одна вещь, которую я никогда тебе не говорил, – сказал он сердито.
– Что это? – спросил Ян.
– Я ненавижу, когда ты становишься очень любезным и насмешливым. Я предпочитаю видеть тебя в гневе. По крайней мере, тогда я знаю, что у меня есть шанс, что ты услышишь и поймешь меня.
К безграничному неудовольствию Дункана, Ян только взял книгу и снова начал читать.



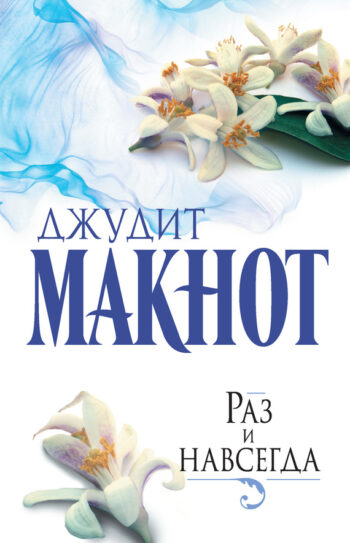
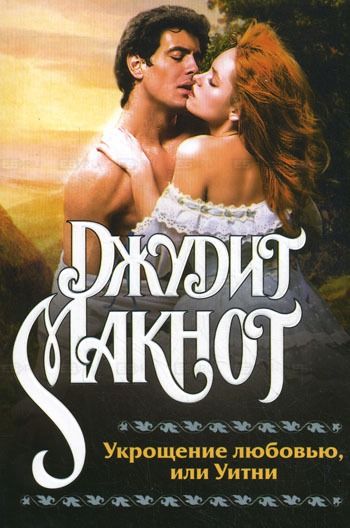
Сюжет не избитый, оригинальный. Финал — хэппи энд, конечно. Ян Торнтон — мечта всех женщин, любящих «плохих» мужчин. Так и хочется встретить такого в реальности, елки палки! Ну а вся книга — для женщин, кто хочет оторваться от действительности, расслабиться и заснуть счастливой. Читайте, и о потерянном времени не пожалеете.